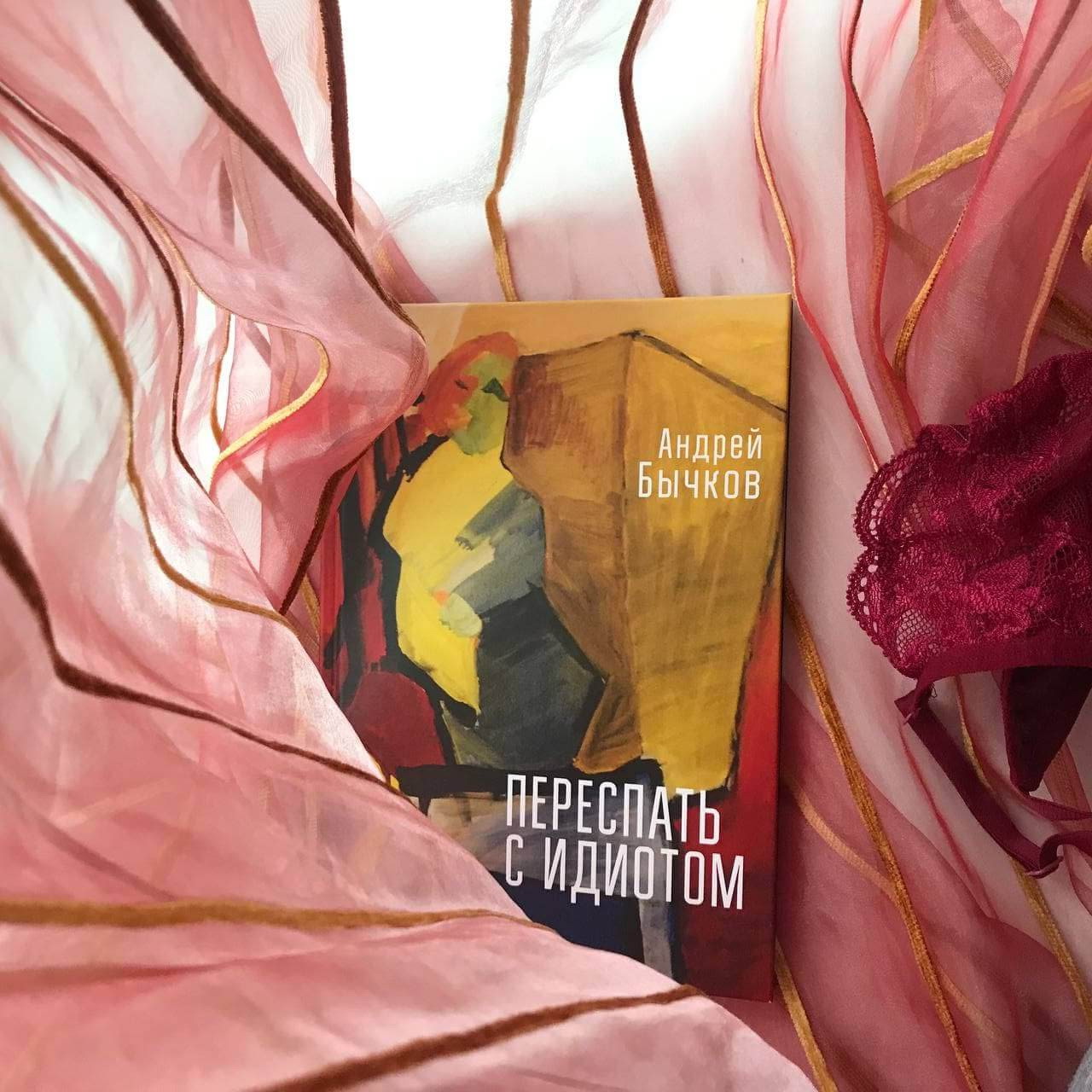«… во всем этом извращении
была и какая-то до чудовищности
чистая правда»
А.Бычков
Подвергать тексты Андрея Бычкова психоаналитической интерпретации является делом очень непростым: сложная форма, многоуровневая структура повествования, местами не поддающийся понимаю язык.
Писать о текстах Андрея Бычкова – дело опасное: нужно скользить по острию лезвия, чтобы не провалиться в пошлость, но при этом приходится кровоточить самому – так происходит при встрече с подлинностью.
Пытаться анализировать подлинность – и вовсе кощунство.
Но есть одно обстоятельство, смягчающее и манящее, позволяющее мне приблизиться к тексту с психоаналитическим интересом. Это место травмы субъекта, вокруг которого все начинается, это та трещина, с которой мы можем иметь дело только через язык. Поэтому рискну.
«И, заметив эту странную женщину, он заметил как бы и себя – какое-то свое странное присутствие»
Философский роман Андрея Бычкова «Переспасть с идиотом» начинается с роковой встречи. И да, это роман о любви, которую автор показывает через раскрытие концепта Dasein.
Она: молодая красивая женщина, студентка по кличке Бронкси (микс имени и фамилии, а значит, непростые отношения с образом). Он: Егор. О нем мы мало что знаем, как о себе, и с ним мы проникнем в мир Бычкова.
Находясь рядом с Бронкси, через нее Егор ощущает это хайдеггеровское при-сутствие – «вот-бытие». «Егор как будто оказался в каком-то внезапно открывшемся пространстве, что он, Егор – просто есть…» Позже мы узнаем, что Бронкси в тот момент в театре тоже себя ощутила примерно так же, как почувствовал ее Егор. Это состояние унесла Бронкси с собой, оказавшись для Егора тем самым элементом, размыкающим его самого, или объектом нехватки, маленьким объектом «а», говоря языком Лакана. Не случайно это происходит в момент окончания спектакля – тот прекрасный момент, ради которого зачастую только и стоит ходить в театр – когда карикатурная игра окончена и начинается самая честная игра. После спектакля настроенный глаз зрителя воспринимает окружающую реальность как драматургию. Но у Бычкова и театр не прост: это театр теней и двойников человеческих, а может и отбросов – театр даунов. И пока еще никто не подозревает, что в этой сцене собрались все, кто будет участвовать в дальнейшей настоящей игре, и неслучайно двойник Егора – актер Ивзбинцев — находится по ту сторону кулис и, в некотором смысле, жизни.
Собранная на мгновение картина пазлов в своем присутствии распадется, и читателю придется собирать ее самостоятельно. Может отсюда этот эффект правдивости? В своем повествовании Бычков тоже ловит дазайн – через текст. Порой следует путем феноменологической редукции – вспомнить хотя бы поездку в метро или описание отчуждения субъекта. Какой родной Егор в своем отчуждении: «Мчащийся в машине в никуда, что Егор мчался в никуда, мчался в нигде, может быть, даже и по Кольцу Садов, что быть может, так Егор выдумывал сам себя, как и все люди, которым почему-то страшно не хватает реальности, хотя под ногами были упругие педали и рядом твердые рычаги и руки держали руль в шершавой оплетке. И были опасности, что можно врезаться в пешехода или в наезжающий слева грузовик, и все же все это было не то». Но понять это можно только после того, как было найдено именно то, испытав которое однажды, как пробуждение, стремишься проснуться вновь. «Это была какая-то другая опасность, отчужденная и безличная, а Егору хотелось своей, которую достаешь как бы из себя, что она есть сокровенная часть себя самого, что просто отражается вовне, и которая сказала бы ему, шепнула тихо, Егор, я твоя опасность, как та женщина…»
«И в отличие от других, Бронкси, почему-то до сих пор не знает, как ей в этом мире быть»
В это время Бронски пытается совладать с собой в сцене перед зеркалом (где, как ни там, поджидает субъекта отчуждение из-за невозможности провалиться в образ). «И вдруг опять, как бы не назвать, что несмотря на это, нравящееся себе в зеркале лицо, нет-нет, это, конечно, неправда, но что как будто там, за лицом, в глубине, — какой-то невидимый изъян, где-то ближе к горлу, вниз, ди, как какая-то мистическая железа, и из-за нее – несварение внешнего, этого дурацкого, неудобного и по сути своей неправильного мира». Замедливающаяся речь, буксующий язык, да и само имя героини не даст соврать, что мы находимся в месте трещины – травмы, результатом которой является отчуждение.
Порой повествование прерывается потоком сознания, с которым мы сталкиваемся ежедневно, как с полем жизни, которое предстает перед нами в своей избыточности, и из которого приходится самому ткать символическое полотно, выделяя генеральные означающие и оплетая вокруг них паутины смыслов. Читатель, если это читатель Бычкова, если текст этот его пригласил, узнает самого себя, не просто отождествляясь с героями, как это обычно происходит, как нас учат читать с детства, и даже не с автором, но с самим текстом.
«Они были, как какие-то испорченные люди и – одновременно – как ангелы»
В романе есть персонажи-джокеры: актер даун Ивзбинцев, о котором я уже упоминала, и аспирант Сергей. Они проскальзывают в масках, «лицо белое как анальгин», появляются в важных местах: театр, троллейбус, горы, поезд, морг, театр, — означивая их условно «точками пересечения жизни и смерти» и исчезают, исполнив свою связующую функцию, то по одну, то по другую сторону реальности.
Во время чтения романа у меня странным образом произошло вытеснение судьбы Сергея, и когда, спустя много страниц была упомянута его смерть, я замялась на каких-то пару секунд: «Сергей умер, как? Ах, да, его же убил Петров!» Вот она, функция джокера: совершив процедуру смещения и замещения в бессознательном, персонаж перекочевал (да простит меня автор, если я внесу немного своего бреда) из романа Сальникова «Петровы в гриппе», который я прочла до этого.
Джокер Ивзбинцев — тот самый идиот — актер даун и двойник, причем, не только Егора. Двойник мой – враг мой, и я же сам, моя самая большая жажда и моя самая большая опасность, ведь между нами всегда идет сражение не на жизнь, а на смерть: кто является копией, а кто оригиналом. И каждый подозревает другого в истинности существования, даже если один является обладателем лишней хромосомы, а другой – нехваткой. Актер – уже сам по себе двойник, который изображает то Кириллова (Ф.М. Достоевский «Бесы»), то Ивана Ильича (Л.Н. Толстой «Смерть Ивана Ильича»), а то и Хлестакова (Н.В.Гоголь «Ревизор») в спектакле пародии на русскую жизнь, где герой то пытался воскреснуть, то никак не мог умереть, но непременно хотел. Но исполнит он это желание уже не на сцене, а в реальности: «Когда их не видит никто, когда санитары уйдут спать, они разыграют, наконец, свою настоящую пьесу…» Как Достоевский и его герои, актер болен и страдает припадками, задается вопросом о своей жизни в контексте болезни: лишняя хромосома – копия чего? Как идиот влачится за красавицей Олимпией в горах и становится участником (а может, режиссером?) трагических событий. Роман множится двойниками: вместо Бронкси с идиотом переспит Олимпия, вступая в сделку со смертью в надежде воскресить жениха.
Сергей – тоже в некотором смысле идиот, играющий со смертью в попытке познать истину, вполне мог бы быть на сцене вместе с Ивзбинцевым, изображая героев Достоевского.
Обыгрывая героев русской литературы, Бычков не просто отдает дань признания классикам, или троллит их, как может показаться, но вступает с ними в отношения – особые отношения.
Третье пространство — хора
Одной из тем, которые волнуют автора, является тема желания, а вспомнив Фрейда, уточню — желание женщины, а с ней и матери. Материнская фигура то здесь, то там появляется и преследует наших героев: в виде матери Ивзбинцева с фалоссом-шприцем в извращенных сексуальных играх «в доктора» с собственным сыном, то в виде матери и бывшей жены Егора — взбалмошной дамы легкого поведения Пумы (фантазм о материнском объекте как проститутки и/или святой). В конце концов, переспать с идиотом — это желание Бронкси, да и в оформлении книги использована картина отца автора – художника Станислава Бычкова, на которой изображена грезящая женщина.
Заканчивается произведение хорой, где встречаются герои в пространстве платоновского изобретения, нашедшего свое применение в топологии психоаналитического учения. Юлия Кристева называет хорой первую стадию психического развития субъекта, где он неотделим от матери. По сути это еще досубъектное существование, поскольку субъект появляется на стадии зеркала, где претерпевает расщепление и обретает язык, что является его травмой и обрекает на отчуждение.
Невозможно отделаться от мысли, что соавтором романа является еще и Платон, преследующий героев по пятам, а за ними и нас с вами. Вслед за Платоном Бычков ищет (вернее, герои ищут, а автор создает) третье пространство – хору. Но у Бычкова хора не психоаналитическая, а философская, платоновская.
Кстати, я уже встречала это пространство в произведениях Бычкова. В сценарии «Нанкинский пейзаж», по которому в 2006 году режиссер Валерий Рубинчик снял свой последний фильм, в финальной сцене главный герой попадает в это пространство, но путь туда ему указывает гексаграмма Кань (Бездна) из китайской Книги Перемен И-цзин. В общем-то одна из задач художника состоит в том, чтобы невидимое сделать видимым, ведь если мы чего-то не можем видеть, не значит, что его не существует. Как и психическая реальность субъекта и его невротический фантазм, за которым он следует. И читатели следуют за фантазмом героев.
В романе «Переспать с идиотом» означающее «хора» имеет ключевую роль в жизни Бронкси. Вопрос о том, как в платоновское начало врывается третье начало – хора, попадается ей на экзамене. Ответить на него она не может. И последующие события ее жизни, повлиявшие на дальнейшие механизмы отчуждение и избывания вины – брак с профессором Евгением Леонардовичем – лишь метонимически связаны с решением ее вопроса.
«Хм… Бронкси»
В состоянии отчуждения, когда «что-то холодное и медленное, почти геологическое и почти тектоническое» сдвинулось у нее внутри, унося ее по жизни ветром и дождем, чему она не может сопротивляться, да, собственно, и некому, потому как, она, Бронкси, думает о себе уже в третьем лице и сдает себя на хранение. Брак с Евгением Леонардовичем как временное пристанище, спасение от тревоги перед жизнью, в которой она, Бронкси, не может себя идентифицировать и назваться от имени собственного, из которого только и возможно желать.
Но даже в кокон, которым окуклилась желающая Бронкси, иногда что-то проникает. Женщине, почти уверовавшей в то, что обманывать себя – тоже судьба, но которая однажды испытала что-то настоящее, тоже снятся сны, от которых хочется плакать. И когда она на сцене видит Ивзбинцева, который так напоминает Егора, Бронкси овладевает странное, навязчивое, болезненное, виноватое, судьбоносное «переспать с идиотом».
Брак с Евгением Леонардовичем Бронкси считает наказанием, называет браком во имя истины, испытывает в нем наслаждение превосходства и вину, которой недостаточно. После измены той, которая с изъяном, с тем, кто обладает лишней хромосомой – копией неизвестно чего, она обретет удвоенную вину, достаточную для того, чтобы избывая ее, навсегда отдаться на хранение профессору и даже родить ему детей.
Возможно, все так бы и сложилось, если бы это был не роман Бычкова, если бы в него не вторгся ураган Реального.
Последняя встреча происходит там, где все начиналось, — в театре, но перед нами уже другая сцена. Герои вроде бы те же, но уже другие. И в этом спектакле, срежиссированном совершенно, каждый честно сыграл свою роль.
«Датта, да, скажет вдруг гром Элиота из неожиданно явившихся туч».
И молния укажет путь из Кносского лабиринта.
И явит себя третье платоновское начало.
И Бронкси станет Ксенией.
_____
Рецензия была опубликована в 18-ом номере литературно-художественного альманаха Артикуляция